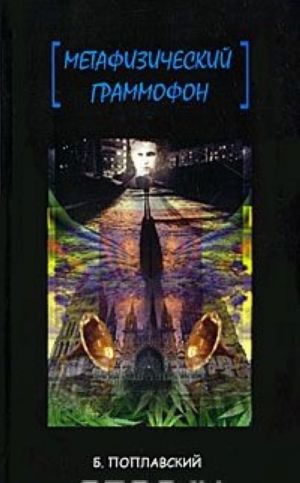Бердяев сомневается в искренности дневниковых откровений Поплавского; но искренность вообще недостижима, если взять в соображение два обстоятельства: лукавство человеческой души, явившееся следствием падшести, и невозможность никоторого человека размышлять обособленно, художественно выраженная Достоевским, философски - Бубером и Розенштоком-Хюсси. Искренность Поплавского отнюдь не в нарочитом выставлении задушевных струн своей души и сумеречных влечений плоти, а в неустанных потугах возвышать свою телесную жизнь помощью слов, исторгнутых из сердца. Он безотчетно жаждет, чтобы слово стало плотью.
Berdjaev somnevaetsja v iskrennosti dnevnikovykh otkrovenij Poplavskogo; no iskrennost voobsche nedostizhima, esli vzjat v soobrazhenie dva obstojatelstva: lukavstvo chelovecheskoj dushi, javivsheesja sledstviem padshesti, i nevozmozhnost nikotorogo cheloveka razmyshljat obosoblenno, khudozhestvenno vyrazhennaja Dostoevskim, filosofski - Buberom i Rozenshtokom-Khjussi. Iskrennost Poplavskogo otnjud ne v narochitom vystavlenii zadushevnykh strun svoej dushi i sumerechnykh vlechenij ploti, a v neustannykh potugakh vozvyshat svoju telesnuju zhizn pomoschju slov, istorgnutykh iz serdtsa. On bezotchetno zhazhdet, chtoby slovo stalo plotju.